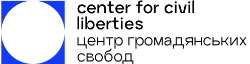Правозащитник Андрей Юров на кировском баркемпе: Прекратить жить «при Обаме», начать жить при себе самом

Член Совета по правам человека при президенте России Андрей Юров 15 июля говорил с участниками кировского баркемпа о солидарности. Помимо философских и гуманистических рассуждений, спикер высказался на темы миграции, геополитики и просвещения. «7×7» представляет расшифровку выступления правозащитника.
«Сейчас надо либо валить, либо уходить в бизнес»
Я, в общем-то, не собираюсь читать вам какие-то лекции, какими-то откровениями с вами делиться. Я смотрю на выставку Рериха и понимаю, что мы собрались для чего-то другого. Я, правда, пока не понимаю, для чего именно.
Тут было вступительное слово одного из организаторов этой галереи. И там был важный момент о том, что пришло время посмотреть на все это метафизически. Вот я и хочу это сделать.
Я скажу несколько слов о том, кто я такой. Я не настолько важная персона, чтобы быть уверенным, что кто-то где-то про меня читал, погуглил заранее. К счастью, нет, я — частное лицо, не очень, к счастью, известное, потому что иначе все это было бы совсем грустно.
Во-первых, я лет уже 30 занимаюсь правами человека. То есть я застал то время, когда за это дело сажали. В 1987–1988 годах я был юным студентом, диссидентом, и пошел я в это не потому, что со мной персонально что-то случилось. Ничего подобного — я был успешным студентом-физиком и собирался всю жизнь заниматься физикой, потом почему-то занялся литературой, а потом вдруг решил, что надо заниматься самиздатом, распространять такие тексты, как «Архипелаг ГУЛАГ». Короче, это был такой интеллектуальный порыв, не имеющий никакого отношения к каким-нибудь правовым обидам, несправедливостям, которые происходили, например, на моей улице или в моем городе.
Это довольно любопытно — наблюдать, как начиналось все тогда, когда людей еще за это сажали, но уже тренд был совершенно в другую сторону. То есть было понятно, что все скоро станет лучше, свободнее, скоро это будет не самиздат, а официальное издание, скоро никого за это не будут арестовывать. И было ощущение, что скоро все будет хорошо.
Сейчас, 30 лет спустя, тренд прямо в противоположную сторону. Когда меня спрашивают, что делать и что нас ждет в ближайшие годы, я, к сожалению, говорю, что ничего хорошего. В ближайшие шесть-семь лет будет очень плохо и будет значительно хуже, чем сейчас. Поэтому всем, кто занимается такими темами, как права человека, гражданское общество и так далее, я в открытую говорю: надо либо валить, либо уходить в бизнес или куда-то еще. Потому что пережить эти семь лет будет тяжело, почти невозможно. Такое вот безнадежное у меня ощущение. Подчеркиваю: 30 лет занимаюсь этим делом и наблюдаю разные тренды, волны, всплески, падения.

«Да, мы все вытерпим»
Я буквально вчера ехал по Москве на такси. А Москва сейчас — вы, наверно, видели эти прекрасные картинки — превращается в настоящую реку. Потому что когда Собянин сменил асфальт на свою плитку, то противоливневую канализацию забыл проложить. Люди в центре Москвы ходят по колено, а иногда и по пояс в воде — когда дождь идет. Так сейчас устроена современная Москва. Более того, она вся перекопана, потому что решили сократить все центральные улицы: то есть расширить пешеходные дорожки и сократить Садовое, например, на одну-две полосы. Москва теперь даже в субботу и воскресенье — всегда девять баллов пробки. Что будет в сентябре, я просто не знаю, когда все вернутся.
И я спрашиваю таксиста. Он ругается страшно. А я его спрашиваю: мне просто интересно, у меня нет машины, я не москвич — а вы все это и дальше будете терпеть? То есть будете стоять в девятибалльных пробках теперь всегда, с семи утра до десяти вечера? На что он сказал: «Ну да, мы все вытерпим, мы такие вот. Мы будем это терпеть бесконечно. Никто не возмутится никогда, потому что мы считаем, что нет никакой надежды, что что-то изменится, что нас услышат и что-нибудь случится в хорошую сторону. В плохую — да, верим. В хорошую — не верим».
Для меня это очень интересные признаки того, что я вижу. Несмотря на эти бесконечные статьи о том, как тинейджеры вышли на улицы, что нас ждет прекрасное будущее, молодежь проснулась. Несмотря на все это, я вижу совершенно другие признаки. Хотя, может, я просто старый пессимист и не вижу ростков всего самого прекрасного, что есть на свете.
«Когда мне мои же родители рассказывают истории про Крым, мне не смешно»
Я последние 30 лет занимаюсь правами человека даже не столько в России, сколько на всем постсоветском пространстве. Я бывал в разных международных наблюдательных миссиях: в Грузии в 2008-м, во время очень неприятных событий на юге Кыргызстана, в Оше, в 2010-м, в декабре 2010-го в Беларуси, когда там был очень жесткий разгон митинга и потом массовые аресты журналистов, правозащитников, адвокатов. Потом почти три месяца в украинской ситуации конца 2013-го — начала 2014 года.
Потом я оказался совершенно случайно 27 февраля 2014 года в Крыму, и, собственно, на моих глазах происходило то, что происходило. Я, к сожалению, видел немножко другую вещь — не ту, которую показывали по телевидению. Я видел, как моих знакомых, приятелей тащили в подвалы так называемой организованной самообороны и в каком состоянии они оттуда выходили. Только за то, например, что они смели возлагать цветы к памятнику Шевченко. Короче, я видел другую сторону всего этого. Я это видел своими глазами. Поэтому когда мне мои же родители рассказывают истории про Крым, мне не смешно, мне очень горько. Я понимаю, то, что они рассказывают, что видят в телевизоре, не имеет никакого отношения к тому, что я видел своими глазами. А я видел многое — с разных сторон. Я имею в виду не то, что там был кто-то хороший, а кто-то плохой. Просто там было много разного.

«Вы учите тому, что есть сами»
Второе, чем я занимаюсь, — образованием в области прав человека и гражданского просвещения. Есть Международная школа по правам человека, которой я тоже много лет занимаюсь, у нас в разных городах проходят мероприятия, но вот так случилось, что ни разу ничего не было в Кирове. Когда-то я занимался журналистикой. Короче, занимался я самыми разными вещами, связанными с развитием гражданского общества и прав человека. Это чтобы вам было понятно, о чем мне можно задавать вопросы.
Это название [выступления] — про солидарность, которой не учат по учебникам, — оно родилось из интервью — у меня брали интервью примерно две недели назад из «Коммерсанта». Это было большое интервью о том, что делать с гражданским правозащитным образованием. Журналистка изучила, как это происходит в Совете Европы, что происходит с программами для школ, вузов, — и начала задавать вопросы: как я вижу, нужно ли вводить такой предмет, как права человека, в школе. На что я ей сказал: ни в коем случае. Не дай бог, если в школе будет такой предмет, как права человека. Или, не дай бог, гражданская активность. Или гражданское самосознание.
А «не дай бог» по одной простой причине: я не понимаю, кто этот предмет будет преподавать. То есть если его будут преподавать те самые учителя, которые сидят в избирательных комиссиях и все фальсифицируют, то не надо, пожалуйста. Потому что мы будем плодить ложь бесконечную. Потому что прежде всего человек предъявляет не формальные слова, заученные из учебника, а самого себя.
Когда-то, по-моему, в 2000 году, я был на тренинге одного известного — фамилию, конечно, сейчас не вспомню — преподавателя и тренера из ЮАР, который работает с разными меньшинствами, группами. Он сказал мне одну фразу, которая… скажем так, я так думал всегда, но бывает, что кто-то скажет — и думаешь: блин, как он сформулировал то, о чем я всегда думал, но не мог выразить словами. И это была даже не его фраза — он кого-то цитировал, и я уж тем более не вспомню, кого — он произнес одну важную фразу для меня, человека, который работает с просвещением. Он сказал: Youteach who you are — «Вы учите тому, что есть сами». Вы учите не тому, что вы знаете, умеете, вы учите не тому, что вы делаете формально. Вы учите тому, что вы есть. Учитель в школе предъявляет самого себя. Он предъявляет свою личность: увлеченность предметом или лень по поводу этого предмета, скуку. Он предъявляет себя как активного человека, который готов противостоять несправедливости в школе, или как лояльного учителя, который всегда слушается директора и не смеет ничего возразить.
То есть на самом деле мы именно это воспринимаем. Учебники мы на фиг забываем. Да не помним мы уже через год ни алгебру, ни географию, ни геометрию — ни хрена нам это не нужно. И если учитель литературы был увлеченным человеком, мы помним те два-три произведения, о которых он рассказывал — или она рассказывала — с воодушевлением. Если это была скукотища, то мы так и помним, что этот предмет — набор чудовищной скукотищи, за которую нас дрючили. Ничего другого мы не запоминаем — это нормально.

«Преподавание культуры православия — наш шанс снова стать светским государством»
Вообще, в любом образовании, просвещении, даже в таких сферах, как физика, математика, точные науки, личность ученого, преподавателя, с моей точки зрения, играет значительно большую роль, чем его формальные знания. Хотя, конечно, если он тупица и ничего не знает, это не восполнить никакой личностью. Но если мы передаем другие вещи, связанные с ценностями, а права человека — это не про формальное соблюдение Конституции, которая, извините, давно не соблюдается. Права человека — это убежденность в том, что она должна соблюдаться, что когда-нибудь наступит день, когда она начнет соблюдаться, а те, кто ее не соблюдал, окажутся на скамье подсудимых, в том числе и судьи, которые выносят абсолютно неправовые и бессудные приговоры — вот они окажутся когда-нибудь на скамье подсудимых. Это должно случиться — даже если это не случится никогда — мы должны в это верить. Иначе все бессмысленно. Иначе рассуждения о правах человека не имеют никакого смысла.
Да, мы знаем, что Конвенция европейская [о правах человека] ни хрена не соблюдается или соблюдается на 10%. Вопрос в том: мы верим, что она должна соблюдаться, и мы хотим построить такое общество, где она будет соблюдаться, или мы хотим сложить руки и сказать: да, ничего не соблюдается, все бессмысленно, права человека — набор бессмысленных статей, каких-то слов, и вообще, место Всеобщей декларации прав человека — в сортире, повесить на двери и, соответственно, иногда на нее смотреть, а иногда использовать по назначению, когда другой бумажки нет.
Понимаете, вопрос в нашей вере. И для меня именно это имеет какой-то смысл. И именно поэтому я категорически против, чтобы какие-то предметы, требующие личного мужества, личного отношения, личной позиции преподавались современными учителями в наших современных школах или вузах.
Кстати, я очень доволен, что наконец-то у нас преподается культура православия и так далее. Это шанс, что страна снова станет атеистической. Я не атеист, но это шанс свободомыслия. Потому что те уроды — извините — которые приходят в школы, большинство из них — бывают замечательные священники, бывают совершенно увлеченные люди, но их единицы, которые приходят в школы и действительно говорят о настоящем, не о формальном православии, а о духовном: о том, что возникает между людьми, о том, что возникает на этой планете, — таких очень мало, 3 процента. Все остальные сталкиваются с формальными людьми, которых просто заставляют это делать. Они сами в это не верят, им все это по фигу, но их заставляют — вот они эту свою вымученность передают детям. Может быть, это залог свободомыслия — когда-нибудь, когда дети действительно возмутятся и скажут: ну сколько уже можно!
Мне бы не хотелось, чтобы то же самое случилось с правами человека и дети потом вспоминали, что это какое-то дерьмо, ложь, мерзость, о которой даже слышать не хочется. Пускай лучше это будет полузапрещенная вещь, за которую сажают, объявляют иностранными агентами, не пускают в вузы — вот пускай она такой и останется. Она останется честной, эта сфера.

«Больше тюрем, больше полиции, больше насилия!»
Про солидарность. Я размышлял на эту тему и вдруг понял, что особенно здесь, сидя в этом зале, вокруг картин Рериха или чего-то, посвященного Рериху и всевозможным философским учениям, мне пришло в голову, что сейчас для развития страны и не только очень сильно не хватает солидарности во многих смыслах. Я сейчас поясню. Может, многие из вас читали книжку Фукуямы — я, вообще, не большой его фанатик, тем не менее в его знаменитой статье «Конец истории» он прав был только в названии. Все остальное было, к сожалению, абсолютным бредом: он решил, что в конце 1980-х — начале 1990-х заканчивается эра тоталитаризма и наконец наступает эра либеральной демократии во всем мире. Он полностью просчитался. Все наоборот. Мы имеем тоталитарный откат по всему миру: от Китая до Соединенных Штатов. Просто облажался мужик вообще по полной.
Но у него есть много замечательных вещей, и одна из самых замечательных экономических книг, которые, с моей точки зрения, надо читать, называется «Доверие», где он показывает, что в тех обществах, где есть сильное доверие между людьми, экономика очень быстро растет, потому что очень маленькие издержки. Если мы посчитаем, сколько мы тратим на охрану…
Сколько у нас охранников в стране, как вы думаете? Сколько их миллионов? Я могу сказать только одно: нет ни одной страны в Европе, где на душу населения приходилось хотя бы в два раза меньше охранников, чем у нас. То есть там в 5, 10, 20 раз меньше. При этом безопасности у нас, как вы понимаете, не больше. Но это не потому, что охранники плохие или хорошие, а потому, что мы настолько не доверяем друг другу, что мы хотим охранника посадить в каждый подъезд, на каждую лестничную площадку, даже желательно в каждую семью — ну а как еще от домашнего насилия защититься? Полицейский должен сидеть возле каждой кровати: мы ж друг другу не доверяем. Мы же настолько ненавидим друг друга, что мы без полицейского даже не мыслим, как мы будем разрешать семейные споры.
То есть это действительно совершенно фантастически дикая система, которая требует, то есть это мы, общество, постоянно требуем — полицейских. Больше полицейских, больше сажать, как можно более жестокие должны быть законы. Мало сажаем. А если сажаем, то маленькие сроки слишком даем. Больше тюрем, больше полиции, больше насилия! — говорим мы. Причем многие из нас при этом объявляют себя либералами. Так интересно смотреть, когда либерал подписывает какой-нибудь закон о криминализации, например, каких-нибудь побоев. Я против побоев категорически, просто человек, который это подписывает, видимо, не понимает, что такое российские тюрьмы, российская пенитенциарная система — он просто не понимает этого. То есть, с одной стороны, он говорит: ах, кровавый режим! А с другой: режим должен быть сильнее, более мощным, больше полицейских, больше дубинок!
И я наблюдаю этот диссонанс в головах и думаю: боже мой, люди, которые вроде пишут тексты приличные, где-то выступают, просто не могут сложить А и Б, они действительно лишены рассуждения. Потому что если режим действительно такой страшный, тогда нужно, наоборот, требовать декриминализации всего, потому что режим будет использовать все что угодно, чтобы неугодных сажать. Либо если режим «ниче» и надо просто усилить наказание, тогда не надо орать, что режим такой плохой. Вы вообще разберитесь: либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Надо же разобраться: туда или сюда.

«Стена — это очень простое решение»
Но нет, мы не хотим разбираться. Когда нам выгодно обвинять режим, мы орем, какой он страшный, а когда мы вдруг чувствуем, что не можем разобраться, мы тут же говорим: режим, приди с дубинкой, наведи порядок, мы сами не можем. Мы не можем даже в своем доме собраться, проголосовать нормально. Мы совершенно не в состоянии самую простую солидарность на самом низовом уровне [проявить]. Тяжелее всего сейчас попробовать проявить солидарность на уровне подъезда, одного дома или, например, одной студенческой группы или факультета — да ни хрена. Мне проще общаться со своими френдами по всему миру, с которыми я связан по марке пива, которое я люблю, или вина, или книжки, это намного легче, чем быть солидарным с тем, кто живет с тобой за соседней дверью или учится в одной группе. С ними очень тяжело быть солидарными, потому что они реальные, живые люди, и с ними надо как-то приспосабливаться.
Так вот, насколько я понимаю, нас, нашу — и не только — страну ждет очень тяжелая судьба, если мы не научимся быть солидарными на трех уровнях. Просто межчеловеческом — и это чувствовать, неважно, человек сидит рядом с нами за соседней партой или на соседнем стуле или он живет в Донбассе, в Киеве, или в Норвегии. Или это беженец из Сирии, которому в аэропорту Шереметьево не дают даже возможности подать заявление на статус беженца, — это неважно. Вторая вещь — это солидарность общин. Наши сообщества друг с другом очень мало общаются. Мы очень мало передаем друг другу опыта, мало поддерживаем друг друга. Если есть где-нибудь удачный опыт маленького уникального подъезда, дома, микрорайона, сквера, нам очень трудно связаться с такими же, как мы, установить с ними связь и проявить эту солидарность. И третий уровень, конечно, это солидарность народов. Проблема в том, что нам сейчас придется решать глобальные вопросы.
Если кто-то думает — что вы, я имею в виду не нашу страну, а какого-нибудь дурака Трампа — если он думает, что можно от Мексики отгородиться стеной, то он сильно ошибается. Невозможно от мигрантов отгородиться никакими стенами, никакими антимиграционными законодательствами. Надо сделать так, чтобы в Сирии можно было нормально жить. Если мы, человечество, сделаем так, чтобы в Сирии, Эфиопии, Сомали, Чааде, Судане, Нигерии, других местах можно было нормально и счастливо жить, то ситуация коренным образом изменится. Но мы пока так не думаем. Мы не солидарны, мы будем и дальше строить стены.
Потому что мы хотим простых решений. Стена — это простое решение. Оно бессмысленное и глупое будет уже через три года. Через пять лет уже маленький дрон будет поднимать тяжесть веса пяти людей. Через эту стену перетащиться с помощью дрона не будет ничего стоить. Но это неважно, мы все равно будем строить стены, как будто мы — даже не в прошлом веке, в прошлом тысячелетии! — возводим Великую Китайскую стену. Мы по-прежнему мыслим этими категориями, мы никуда не ушли за две тысячи лет из этого социального мышления.
Поэтому, когда я говорю про три уровня солидарности: людей, общин и народов — еще, оглядывая все вокруг, я понимаю, что нам нужна солидарность на уровне физического взаимодействия людей, на уровне социальном и, боюсь, на уровне метафизическом. Миграция — это просто самое очевидное и самое явное, которое стучится в наши двери. Причем миграция как насильственная, так и нет. Я, например, очень редко в районе вокзалов Москвы слышу русскую речь. Только не подумайте, что я против мигрантов, нет. Скорее, я за мигрантов. Я про другое: они не умеют говорить по-русски. Может, мы будем учить их говорить по-русски? Вопрос не в том, чтобы их выгнать — их не надо выгонять, иначе в Москве убирать будет некому и работать будет некому — москвичи не очень любят трудиться. Но мы должны что-то с этим делать.

«Скорее вы будете решать общемировые проблемы, чем Трамп»
Во-первых, делать с тем, почему люди уезжают оттуда — значит, там какие-то беды большие происходят. Во-вторых, мы должны сделать что-то здесь, чтобы эти люди нормально, хорошо и счастливо жили и, желательно, учили русский язык и хоть немножко интегрировались в нашу культуру, а не отгораживаться от них стенами, например стенами гетто. Потому что в Москве есть целые районы, где вообще нет людей, говорящих по-русски, буквально целые микрорайоны. Точно так же в Амстердаме есть целые микрорайоны, где никто не говорит по-голландски. Или под Берлином есть целые районы, где никто не говорит по-немецки. Более того, у всех этих людей немецкие и голландские паспорта. В России хоть не так.
Подчеркиваю: я не про то, что мигранты плохие или они представляют угрозу. Ни один человек не представляет угрозу, если с ним правильно выстроить отношения. Вопрос заключается в том, как мы выстраиваем отношения. Мы выстраиваем их на принципах солидарности или на принципах страха перед «другим», изначального неприятия, изначального выстраивания стен, на межчеловеческом, между сообществами и между народами уровне.
Это для меня очень важный вопрос, учитывая, что сейчас прогресс достиг тоже верных вещей, и если кто-то не верит в климатические изменения — я не про потепление, а про изменения, — то посмотрите на последнее лето. В него можно верить или нет, но есть многие очевидные вещи. Или, например, слой пластика, которым мы уже, извините, загадили весь мировой океан, весь абсолютно. Он уже меняет климатическую систему планеты.
Но мы не можем решать эти вопросы, сидя исключительно в маленьком зале. Мы должны, к сожалению, выходить на общечеловеческий уровень, не больше и не меньше. Если вы думаете, что есть кто-то, кто выйдет на этот уровень, если вы думаете, что Трамп будет решать общечеловеческие вопросы экологии, вы ошибаетесь. В каком-то смысле скорее вы будете решать эти проблемы, чем Трамп. У него нет планетарного мышления, он не понимает, во что мы превращаем планету. И он не понимает, что делать с Африкой или Ближним Востоком. У него такие же простые и тупые методы, как много лет назад: стрелять, бомбить, возводить стены, не пускать, запрещать визы. А что еще он умеет делать? Он ничего больше не умеет. Не потому, что он глупый или плохой — нет, он просто не мыслит по-другому. Ему очень тяжело мыслить другими категориями.
Поэтому я говорю, что надежда, что есть какие-то политики там, которые сидят, мудрецы, они-то знают — да ни хрена они не знают абсолютно. Они ничего не знают. В лучшем случае у них опыт десяти лет работы в банке, как у Макрона. Нет у них опыта никакого планетарного мышления, у них опыт совершенно другой. И нет на них надежды в этом смысле. Скорее надежда на горизонтальные связи и горизонтальную солидарность, чем надежда на то, что какие-то политики и мудрецы нам подскажут.
Это очень тяжело. Я понимаю, что это про то, что простой человек, сидящий в этом зале, должен думать о планетарной ответственности. Это очень странно, это очень дико. Нам бы за то, чтоб вот эту улицу Герцена перекопали, нам бы хоть тут асфальт положить, а вы тут про Мировой океан с его загрязнением. Но, к сожалению, нам придется работать на всех уровнях. Мы дошли до такого состояния, что нам, к сожалению, придется работать на всех трех уровнях.
Вот и все, что я хотел сказать. Комментарии, вопросы?

«Это в нашей и западной культуре: чуть что случилось — иди в суд»
— Полицейские живут в голове. В вашей [голове] какой: планетарный, патриархальный, другой?
— Это отличный вопрос. В моем не очень, к сожалению, светлом разуме полицейский — это прежде всего очень ограниченная служба, это сервис. Сервис очень небольшой, связанный с нашей безопасностью. И он должен быть очень небольшой, очень эффективный и влезающий в наши отношения только тогда, когда мы не можем друг с другом договориться. Когда мы вместо того, чтобы вот так разговаривать по-доброму, начинаем бить друг другу морды, то и в этом случае, если мы не идиоты, мы можем позвать третьего, нормального человека, которому мы доверяем, и он с нами разберется.
Понимаете, полицейский — это же такая подпорка, когда мы уже не доверяем друг другу никак, и не доверяем даже третьей стороне. Вот ведь в чем ужас. Если вы посмотрите, как устроены суды — я имею в виду в истории человечества, — то суды, к которым мы привыкли, такие полугосударственные, они же использовались одним процентом человечества. Все остальные разрешались внутри разных — я сейчас не к тому, что это хорошо — общин, кланов, патриархальных, матриархальных систем — неважно, но это решалось между людьми, внутри сообществ. Не нужно было звать судью, только в самом крайнем случае, особенно если выходил конфликт между человеком и некоей верховной властью — тогда да. Но мы сейчас не можем ничего решать. У нас такая культура — это не плохо и не хорошо — в том числе западная национальная культура связана с тем, что чуть что случилось — иди в суд. Мы не пытаемся примириться, найти общий язык.
И вот для меня, еще раз говорю, в идеале — полицейский, судья и так далее — это очень крайняя мера, когда мы никаким способом не можем договориться. И для меня самое главное — это умение договариваться, а не иметь внутреннего полицейского с дубинкой. То есть главное — иметь внутри человека, который готов протягивать руку и пытаться понять даже своего прямо стоящего оппонента. Это сложная система.
Как в государстве должна быть устроена полиция — на этот вопрос я как раз легко могу ответить. Легко, но долго: что должно быть сделано, какие полицейские, как они должны быть обучены, сколько их в среднем должно быть, какая у них должна быть подготовка. К счастью, на эти вопросы есть ответы. Я не скажу, что есть одна какая-то волшебная страна, где все идеально с правами человека, духовностью и так далее. Ничего подобного: во всех странах все по-разному. Но есть страны, которые, например, решили полицейские вопросы. Там полиция маленькая, эффективная и очень высокий уровень безопасности.
Так же, как с тюрьмами: во многих странах, например в Голландии, тюрьмы закрываются. У нас строятся новые, открываются, а там — закрываются. Заключенных больше нет, понимаете, кончились заключенные. Потому что пенитенциарная система рассчитана на другое. У нас она рассчитана на месть и ненависть. Зачем у нас тюрьма? Чтоб неповадно было. Зачем тюрьма в Голландии? Чтоб человека вернуть в общество. Чтобы он потом был безопасен. Мы же понимаем, что насильника сажаем на 15 лет, каким он потом выходит? Нам безопасно ходить с таким человеком по улице? Да, нам хочется, чтобы сейчас у него, ух, аж зубы скрипели от ненависти. Это нам сейчас хочется. А через 15 лет, когда он выйдет, нам приятно будет ходить по улицам? А хорошо, когда наши сестры, дочери будут ходить по тем же улицам, что и он через 15 лет? Это нам ок или не ок, когда он выйдет? Но мы же об этом не думаем, нам же хочется мести сейчас.
Вот это про продумывание, про системный подход. Если мы поддаемся эмоциям, то мы действуем одним образом. Если мы пытаемся выстроить систему, как это должно работать в течение 5, 10, 15 лет, то мы будем принимать совершенно другие решения. Неважно, говорю я о раздельном сборе мусора, о возобновляемых источниках энергии, о тюрьмах, о полиции и о многих других социальных вещах или об устройстве системы ЖКХ. Это на самом деле все про одно и то же. Это про выстраивание либо системного подхода и мышления, либо про сиюминутную выгоду или месть. Вот что-то такое сейчас урвать, а дальше неважно, что.

«Мы ничего не умеем, только бомбить»
— Когда вы говорили о мигрантах, вы сказали, что одно из решений — это создание хороших условий жизни на их исторической родине. А каким образом это можно сделать?
— Если бы у меня был простой ответ на этот вопрос, я бы не здесь выступал, а в Карнеги-холле, и уже давно был бы лауреатом Нобелевской премии мира. У меня нет простого ответа на этот вопрос. Я понимаю только одно: что количество беженцев сейчас в мире официально, по статистике управления Верховного Комиссара по правам беженцев ООН, самое большое за всю историю человечества. То есть столько беженцев еще не было никогда. И мы прекрасно понимаем, что люди бегут по разным причинам: кто-то по экономическим, кто-то по политическим, кто-то по военным, кто-то — по каким-то другим. Но это означает, что во многих частях света мир небезопасен. Почему он таким стал? Понятно, что можно сейчас искать виноватых, и, в общем, даже справедливо: колониальный режим в XIX веке, бомбардировщики НАТО, вмешательство Советского Союза в Афган — мы можем придумывать много разных причин, и все они будут справедливыми.
Вопрос заключается в другом. Во-первых, я, например, считаю, что мир современный стал настолько глобальным, что надо забыть говорить о том, что надо как можно меньше беженцев, пускай все живут там, где жили всегда, и будут закреплены за этой территорией. Этого уже не случится. Началось второе великое переселение народов, и оно не закончится в ближайшие десятилетия. И оно связано не только с тем, что «там» плохо. Но то, что там плохо, — а «там» очень плохо, прям во всей Африке, даже в ЮАР, которая входит в БРИКС, — с этим надо что-то делать.
Давайте так. Я сейчас рассуждаю, я могу отойти от каких-то прекрасных гуманистических вещей на очень прагматические. Этот миллиард или полтора, два миллиарда, если их проблемы будут по-прежнему такими же страшными, они все равно придут сюда. Придут, вот Средиземное море, перейдут по Черному — придут! Им деваться некуда. Вы ж понимаете, что рождаемость за последние сто лет, в том числе, кстати, благодаря гигиене и пенициллину, в Африке выросла примерно в 10 раз. За сто лет — в 10 раз. Да, при этом — отсутствие контрацепции почти полное или запрет на нее, например в католических регионах. Мы можем делать вид, что этого нет. Но это есть. В 10 раз! У нас, как вы понимаете, рождаемость продолжает падать, как и во всей Европе.
Возникает вопрос: что этим людям там делать? Там очень мало плодородных земель, там ничего нет. Там есть только транснациональные компании, которые продолжают эксплуатацию этих территорий. Что мы собираемся там делать? Мы вообще думаем о том, что этим людям делать? Мы можем там создавать университеты, какие-то технопарки, что-то еще, чтобы эти люди — они не глупее нас с вами — что-то делали для человечества. Можем сказать: вот вы там в Африке своей закройтесь, а мы будем стены вокруг строить. Еще раз говорю: стены не помогут. Что делать конкретно, я, к сожалению, не смогу ответить на ваш вопрос, потому что у меня нет даже таких ресурсов и знаний. Если б меня сейчас пригласили в какой-нибудь Всемирный комитет одним из экспертов «вот что нам делать с Африкой», я бы первые два года ездил, задавал вопросы и смотрел, потому что у меня нет универсальных рецептов. И я понимаю, что их можно придумать, если захотеть. Но я понимаю, что никто не хочет. У нас есть одно главное средство, его применяет, так сказать, как наша сторона, так и Америка, НАТО и так далее, знаете, какое? Бомбить. Вот ничего другого мы делать не умеем. Но, к сожалению, это не метод. Вот такая проблема. Тут портрет Рериха как раз на меня смотрит и подсказывает мне, что да, это не метод.

«Китай и США с двух сторон, но с одинаковой ожесточенностью уничтожают международную систему прав человека»
— Вы рассказали о системе прав человека, которая появилась после травматического опыта Второй мировой войны. Суть вашего посыла такова, что в последнее время эта система дает сбои в силу разных причин и мы живем не по тем договоренностям, которые были достигнуты в конце 1940-х — начале 1950-х годов, а «по понятиям». Вы обрисовали в общих чертах какую-то утопическую систему, когда мы движемся исключительно в сторону понятий, и инициируется это несколькими государствами. И одно из спасений, насколько я понял ваш тезис, — это сохранение системы прав человека и воспитание тех людей, которые будут транслировать ценности и так далее. Но мы понимаем, что в данный момент не все лидеры — в широком смысле слова — главы государств, лидеры организаций готовы на это идти, потому что им гораздо удобнее «по понятиям». Какое ваше видение: что будет в течение 5–10 лет с системой прав человека? Условно говоря, мы движемся к тому, что мы ее потеряем и должны будем придумать новые правила? Что будет?
— Не задавайте мне такие страшные вопросы. Я же пессимист, я много раз предупреждал. Понимаете, у меня давно уже нет надежды, но у меня осталась вера. Это такой парадокс. Я не очень-то надеюсь. Когда я говорю о межчеловеческой солидарности, я просто верю, что она в состоянии победить — но верю. При этом наблюдения подсказывают, что это не очень так. Когда мы все вместе защищаем какого-то журналиста или правозащитника, активиста, я вижу эту солидарность каждый день. Но как только эта угроза спадает, и нужно всем вместе разобраться с ливневой канализацией или с бытовыми отходами — все. То есть мы, по крайней мере в нашем обществе, можем быть солидарны очень короткое время и в связи с очень сильной угрозой. Дальше все распадается.
Я думаю, что проблема, связанная с правами человека, связана не только с тем, что лидеры каких-то государств плохо думают или размышляют. Понимаете, права человека изначально были ими же придуманы, но с самого начала им мешали. Права человека — это узда, это ограничения, которые государство само на себя накладывает. Ну на хрена мне эти ограничения? Они ж болтаются. Как меня, например, заставили бы ходить с тремя металлическими хвостами: мне тяжело, они волочатся, тяжело ходить, садиться, понимаете? Тяжело в самолете лететь — все время вот эта болтается металлическая цепь. Вот эта металлическая цепь, которая как раз государству не дает делать все, что оно хочет.
Вот оно хочет людей сажать, потому что они, например, выходят на площадь Тяньаньмэнь. Я имею в виду на днях умершего известнейшего правозащитника, китайского лауреата Нобелевской премии мира [Лю Сяобо]. Но он мешал очень, потому что он вышел к студентам на площадь Тяньаньмэнь и наблюдал, как их укатывают танками. До сих пор так ничего и не было написано на русском языке настоящего, что было в 1989 году на площади Тяньаньмэнь и какую позицию занял другой прекрасный лауреат Нобелевской премии Горбачев по этому поводу. Ничего не написано, хотя он знал, сколько сотен тысяч людей укатано танками, что площадь просто чвакала кровью. Он это все знал. Что он сделал, этот лауреат Нобелевской премии мира? Ничего, он промолчал.
Понимаете, это действительно так: государству права человека мешают, мешают это делать: сажать, убивать, иметь тюрьмы, как в Чечне. Права человека — это такое дерьмо, оно мешает государству делать то, что оно хочет. Мешает строить стены на границе с Мексикой, не пускать в Соединенные Штаты мусульман только по тому признаку, что они мусульмане. Да, права человека — вот такое дерьмо, которое мешает государству творить все, что оно захочет. Вот оно так придумано.
Но проблема не только в государстве. Все действительно сейчас намного сложнее. Я бы сказал, что, с одной стороны, такой реванш так называемых традиционных ценностей, а с другой стороны, как раз ультразападный индивидуализм, который тоже, кстати, фактически идет против тренда солидарности — они прекрасно друг другу помогают в разрушении этой общей модели. То есть я бы так сказал: Китай и Соединенные Штаты с двух сторон, но с одинаковой ожесточенностью уничтожают международную систему прав человека. Я специально Россию немножко вывел еще и потому, что она ни по количеству людей, ни по экономике не игрок, если честно, не сравнить ни с Китаем, ни с США. Они в 10, 20, 100 раз больше, это просто несравнимые цифры. Но они с двух сторон делают все, чтобы эту систему разрушить. Я думаю, специально, на самом деле, их это не устраивает. То есть по большому счету последний оплот — это Европа, включая, кстати, до последнего времени Россию, пока Россия не стала блокировать решения Европейского суда и, собственно, потихонечку выходить из Совета Европы. То есть Россия в этом плане играла на той же стороне, что и вся другая Европа. Сейчас ситуация более сложная. Конструкт более сложный и связан не только с геополитикой — это вообще не про геополитику, а про наши личные связи.
Способны ли мы, например, выстраивать горизонтальную солидарность? Надо садиться и разговаривать, не ожидая, пока правители это сделают — не сделают. Короче, нам надо повзрослеть, прекратить надеяться на бога, царя и героя. Как это, «мы никогда еще не жили так плохо, как при Обаме». Вот прекратить жить «при Обаме», начать жить при себе самом. При избранном нами мэре, губернаторе — я даже не про президента, это далеко.
— Так нам по понятиям говорить или по закону?
— Не знаю. Я думаю, если это не государства, а народы, они могут договариваться и по-другому.
— По международному закону?
— Конечно, есть же международное право. Более того, у нас просто слишком мало прямых горизонтальных контактов. Мы слишком мало общаемся с такими же, как мы, по ту сторону границы. Например, по ту сторону украинской границы. И поэтому у нас очень искаженное [представление]. И у них так же мало представления о нас.

«Сотни и тысячи людей должны собираться и на протест, и для совместной рефлексии»
— Зерна солидарности формируются на низовом уровне. Причем, как правило, прежде всего людьми думающими. В связи с этим хотелось бы не то что погладить Вятку по головке, но тем не менее есть здесь тенденция, что интеллигенция собирается. Интеллигенция может быть по группам, бывает возможность встретиться в расширенном формате. Интеллигенция общается, обсуждает проблемы. Казалось бы, и на Вятке спорная фигура — Навальный, но начался процесс — извините, площадь перед судом была заполнена людьми, которые приходили выразить некие свои… По крайней мере, задавали вопросы: что происходит? Я хочу спросить: на самом ли деле солидарность здесь начинается, а не в глобальном [пространстве]?
— По мне, она начинается здесь, но на разных уровнях. То есть между людьми, здесь, но по темам: от самых локальных до самых глобальных. То есть мы, собираясь здесь, на очень низком уровне, должны тем не менее ставить ни больше ни меньше вопросы от парка соседнего до планетарных, до метафизики. Чтобы не оскорблять неверующих людей, скажем, до ноосферы. Как минимум, рассуждать от того, что нам делать, например, чтобы на этой улице была безбарьерная среда для инвалидов-колясочников — вот от этого уровня, до ноосферы — и это очень важно. И рождается солидарность именно на таком уровне.
Я скажу, что все изменится кардинальным образом, реально, в том числе в нашей стране, не благодаря неким политикам — я не против них, я их принципиально не называю, ни проправительственных, ни анти-, вот вообще не называю, у меня просто привычка такая. Когда люди выходят не на протест, может, и справедливый, тысячами или сотнями на улицы, а когда они этими сотнями и тысячами будут собираться в таких залах для совместной рефлексии о том, например, что нам делать с системой прав человека, с Африкой, с загрязнением планеты.
Мы, например, понимаем прекрасно в нашей стране, что с нашими нефтью и газом превращаемся в страну уже не третьего, а четвертого мира, что Саудовская Аравия через 10 лет сама перейдет на возобновляемые источники. А когда Россия полностью перейдет на возобновляемые источники? Я думаю, лет через 150, об этом еще Салтыков-Щедрин писал. Помните, он у вас еще бывал, он написал интересную вещь: «Разбуди меня через 100 лет — и в России будет все то же самое, а именно — пьют и воруют». Прошло 150 лет.
Понимаете, когда мы будем собираться и думать — но не просто рассуждать, а прям думать — о том, как это начать делать прямо сейчас. Собрать клуб любителей Илона Маска и начать заказывать у него прямо сейчас непосредственно эти батареи. Я специально сейчас говорю глупости. В смысле, это не к тому, что прямо так надо делать — надо думать и рефлексировать и локально, и глобально, и начинать действовать — и локально, и глобально.

«Заявление по поводу ввода войск в Крым — самый мужественный поступок, который сделал СПЧ за последние пять лет»
— Если права человека так мешают государству, то понятно, что государства создают некоторые инструменты, чтобы сделать вид, что это не совсем так. На мой вкус, одним из таких инструментов сейчас является СПЧ [Совет по правам человека] при президенте. Мне кажется, что наличие таких инструментов, институтов и их деятельность, оно в большей степени оптимизирует политику государства, в том числе в отношении прав человека, и показывает: вот, смотрите, у нас СПЧ есть. Для меня вопрос очень сложный. Думаю, вы для себя на него уже отвечали, поэтому и мне ответите: кто бы мог участвовать в этом инструменте?
— Очень хороший вопрос. И он вдвойне хорош, потому что я вам не отвечу на него за пять минут. Если хотите, за несколько часов на него отвечу в кулуарах. Потому что я об этом много размышлял, и в том числе тогда, когда меня туда пригласили. И потом несколько раз, кстати, был момент, когда меня чуть оттуда не выгнали — и я был очень горд. Когда я 1 марта 2014 года выяснил…
Дело в том, что в этот день Совет Федерации принял решение о вводе войск в Украину, в том числе в Крым. И Матвиенко заявила о том, что на самом деле было убито несколько граждан России. Именно как члену СПЧ мне удалось дозвониться до российского генконсула в Крыму и спросить, где убитые россияне? Это очень важно, я — член СПЧ, пожалуйста, я должен поехать в госпиталь, куда-то еще. На что этот человек — сейчас не помню его фамилию, я об этом тут же написал в твит и десяток эсэмэсок отправил: от РИА «Новости» до «Интерфакса» — сказал: «Это все фейк, ерунда, никто не погиб». Я говорю: стоп, минуточку, вы сейчас говорите о том, что третье лицо в государстве лгала? Давайте так: она введена в заблуждение. Правильно? Он говорит: «Ну да». Отлично. И вот этот твит: я не сказал, что она неправа, что сволочи, суки, кровавый режим — нет, я такое не использую. Я как член СПЧ говорю: Матвиенко введена [в заблуждение] — я, правда, не знаю, кто ее ввел в заблуждение, возможно, она говорила совершенно искренне, у меня нет доказательств. У меня есть доказательство только одно: то, что она говорила, расходилось с фактами. И только потому, что я был членом СПЧ, мне удалось — это был третий раз в жизни, когда я попал в топ Яндекса, у меня за один вечер, по-моему, было 50 интервью — когда я сказал, что никто не погиб, я здесь присутствую. Это ложь, здесь нет никакой угрозы. Никто никого не громит: вот из моего окна гостиницы по парку ходят женщины с детьми, колясками. Я не понимаю, куда можно вводить войска. Все абсолютно безопасно. Просто нет никого, кто создавал бы угрозу, кроме непонятных людей в зеленой форме без опознавательных знаков, которые действительно создавали напряженность в тот момент, потому что никто не понимал, кто это.
А 3 марта СПЧ сделал заявление по этому поводу. Вот после чего, собственно, его чуть не разогнали. О том, что Совет Федерации должен отозвать это решение. Это был, наверно, самый суровый и самый мужественный поступок, который сделал СПЧ за последние пять лет, начиная с формирования нового состава. Нужно это было, не нужно — мне трудно сказать.
Скажу последнюю, страшную фразу. Когда я в 2012 году согласился пойти в СПЧ, у меня было два образа. Первый: СПЧ — это такой, знаете, коллективный шут при монархе. Вот он бубенчиками звенит, но иногда говорит правду и умеет кого-то там спасти. Этот образ коллективного шута мне нравился — он мне нравится еще со времен моего любимого фильма «Графиня де Монсоро» про знаменитого Шико — шута при всех двух Генрихах, и Третьем, и Четвертом. Хороший образ.
Но потом я понял, что образ намного более трагичный. СПЧ — это такой юденрат в варшавском гетто. Варшавское гетто — это гражданское общество. Юденрат, то есть орган самоуправления, который да, ведет переговоры с внешними властями, а будет ли эвакуация их гетто в Треблинку и в Аушвиц — наверное, будет. Что сделает юденрат? Пустит ли, как в варшавском гетто, себе пулю в лоб, или останется, или сбежит за границу — я пока не знаю, я пока не принял решение. Но это тот самый образ.
Я специально сейчас говорю о том, что все невероятно противоречиво. С моей точки зрения, есть еще третья функция. Если начнется кошмар, большой, то СПЧ, благодаря тому, что там очень много приличных людей, включая Людмилу Михайловну Алексееву, мог бы быть в критической ситуации медиатором. И это для меня самая важная функция, которую я оставляю для момента Ч. Потому что могут случиться разные, очень тяжелые события, и иногда нужен какой-то общественный медиатор, который вдруг коллективно сможет что-то сказать. Ну и предотвратить, например, уж слишком кровавый сценарий. Не знаю, какой, не знаю, чей, — я не политолог.
Опубликовано 20.07.2017: https://7×7-journal.ru/item/96935