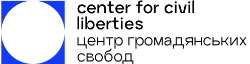Не идеологией нас надо сшивать, а образом будущего

Нужно учить народ контролировать власть, в первую очередь местную.

Один из самых известных диссидентов СССР, весивший после четырехмесячной голодовки в политической зоне ВС 389/35 в Пермской области 39 кг. Автор «Пособия по психиатрии для инакомыслящих», член Американского общества психиатров, Королевского колледжа психиатров Великобритании, Всемирного совета реабилитации жертв пыток, международного Пен-клуба, автор нескольких книг и сотен статей. Все это — о правозащитнике, общественном деятеле и главе ассоциации психиатров Украины Семене Глузмане, с которым мы беседовали о Майдане и синдроме толпы, о дружбе с «бандеровцами» и ферменте сопротивления, о контроле над властью и ответственности за прошлое.
— Семен Фишелевич, вы один из тех, кто поддержал Майдан, но никогда не рвался на его сцену. Почему, кстати?
— Я никогда не стремился на сцену — со времен Руха ни разу не был ни на одном сходняке, то бишь… на важной встрече достойных людей. Просто понимаю, что психология одного порядочного человека и психология тысяч порядочных людей резко различаются.
При этом, должен признать, еще во время Оранжевой революции мне звонили многие зарубежные коллеги, звезды мировой психиатрии, с одним вопросом: где синдром агрессивного влияния толпы?
Украинский народ показал себя совершенно удивительно и в 2004-м, и в 2014-м. Во время недавнего урагана в Хьюстоне из-за мародеров полиции пришлось ввести комендантский час. Много ли случаев мародерства мы можем вспомнить, когда в центре Киева, с его многочисленными дорогими магазинами и бутиками, стояло до 200 тысяч человек?
— В середине 1970-х, в пермской зоне, молодой еврей Глузман сблизился с украинскими националистами — 25-летниками. Но тогда вас объединил общий враг, а не общее видение будущего.
— Да, я несколько лет провел в лагере бок о бок с теми, кого называли «бандеровцами». Это были простые люди, имен Бандеры или Шухевича из их уст я никогда не слышал. Они просто защищали свою землю от «пришлых». Я спросил однажды дядю Васю — Василия Маложинского, которого считал солдатом УПА, а он оказался из дивизии СС-Галичина, зло так спросил, с укором: мол, как же вы могли?! И он, как мог, объяснил: «Спершу були совєти. Потім прийшли німці. Всі — чужі. А одного разу я побачив і почув своїх, йшли хлопці та співали українських пісень. То я й пристав до них. То ж свої були…» Вот так, просто и без идейного пафоса.
— Еврейская поддержка Майдана не удивила?
— Нисколько не удивила. Одно из самых ярких воспоминаний детства — мне было лет 10–11,я возвращался к себе домой на троллейбусе, подымавшемся на Артема с площади Октябрьской революции (нынешнего Майдана). На одной из остановок зашла пожилая дама и очень вежливо, на хорошем украинском языке, спросила у пассажиров, где ей лучше выйти. Троллейбус взорвался гневом — я был испуган, не понимая, что происходит. Начал эту травлю какой-то люмпен, едва ли не в майке, его поддержали голосистые тетки — это был поток оскорблений, обрушившийся на женщину, просто заговорившую по-украински. Тогда я понял, что рядом со мной живут еще одни евреи — украинцы.
Потом, когда ежегодно стали измерять индекс толерантности, оказалось, что антисемитизм и ксенофобия отступают, хотя антисемиты, разумеется, есть и будут всегда. Это касалось и всех других сфер — страна получила шанс.
Я помню, как один из первых американских послов в Украине говорил своим друзьям: мол, вы зачастили в Москву, приезжайте сюда, здесь совсем другой народ. И это правда, дело не в идеализации или романтизации, а в провозвестниках европейского менталитета.
Разумеется, на Майдане 2014-го были разные люди, и стояли они за разное. Но так было и в зоне — некоторым я за семь лет руки не подал.
— Сегодня, три с половиной года спустя, не разочарованы?
—Я не столь наивен, чтобы не понимать: революция заканчивается не так, как мечтают ее участники. Поэтому предвидел, что, возможно, буду разочарован, но… не ожидал, что настолько.
Понимаете, в своем первоначальном оптимизме я опирался на лагерный опыт. Со мной сидело много людей разных национальностей, но украинцев всегда было больше всех — порядка 30–40% политзаключенных. Очень разных — не шибко умных — и мудрых, образованных — и почти неграмотных, искренних — и себе на уме. Я плохо понимаю, что такое этническая психология, но за все годы в политической зоне я не встретил ни одного белорусского, киргизского или узбекского диссидента. А КГБ был везде. Поэтому, в отличие от многих республик бывшего СССР, Украина имела возможность постепенно прийти к каким-то европейским ценностям. Здесь есть фермент сопротивления, но народ не тренирован в демократии и не в состоянии контролировать своих политиков.
Это, кстати, выяснилось довольно быстро, поэтому, на мой взгляд, единственный выход — пройти долгий путь мажоритарных выборов.
— Где гречка решает все?
— Она решает все, поскольку за ее раздачу никого не сажают. Разумеется, необходимы новые законы, институт отзыва и т.п. — нужно учить народ контролировать власть, в первую очередь местную. Много ли украинцев требуют отчета от своих районных депутатов? То-то и оно. И на кого нам обижаться?
Что касается гречки, то помните сцены Тюльпановой революции в Бишкеке, когда революционеры тащили на спине украденные холодильники и телевизоры? В Киеве же этого не было… Здесь оба Майдана требовали от власти не гречки, а совсем иного.
Просто люди принимают поражение очень быстро, сидя на кухне или в ФБ и причитая: опять м…дака избрали. А в Европе тоже выбирают не лучших, но их контролируют —и этому нужно учить. Я знаком со многими, кто помогает при поддержке западных партнеров строить в Украине демократические институты. Подавляющее большинство из них работает исключительно ради денег. Некоторые из них негодяи. К сожалению…
— Для меня новые герои — это Небесная сотня, а не лидеры ОУН или УПА. И то, что память о новых героях опошляется, очевидно. Она опошляется, когда стопорятся уголовные дела, которые должны назвать виновников бойни. Она опошляется, поскольку руководство страны не хочет признать, что с той стороны тоже были украинцы. Я знаю одну семью, в которой рос мальчик, единственный сын, которого «плохо» воспитали — он хотел быть украинским офицером. Его сожгли на Майдане. Возможно, кто-то из друзей моей дочери, периодически бросавших коктейли Молотова.
Есть много вещей, которые нас разобщают. Но в ситуации, когда народ в массе своей ненавидит и презирает власть, о какой любви друг к другу можно говорить?
— Что вы думаете о декоммунизации, принимающей все более изощренные формы?
—Как бывший политзаключенный и антисоветчик, я не могу не приветствовать этот процесс. Но в нынешнем исполнении он вызывает у меня чувство брезгливости. Как и люстрация, которая была явно организована и управляема сверху и прекратилась так же внезапно, как и началась.
Люстрация была противозаконной и в общем бессмысленной, а за ней последовала такая же бессмысленная и отчасти противозаконная декоммунизация. Аутодафе над мертвыми ничего не даст, особенно когда его проводит маргинальная гниль.
Мы же проголосовали в свое время за Кравчука, а ведь КГБ арестовывало диссидентов только после санкции отдела идеологии ЦК, который он возглавлял. Почему бы его не привлечь к ответственности? А заодно и всех депутатов Верховного Совета из группы 239, благодаря которым была провозглашена независимость.
Очень удобно сносить памятники, снимая с себя ответственность за прошлое. Мы же вечная жертва, какой с нас спрос? «Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить: кто написал четыре миллиона доносов?» — сказал когда-то Сергей Довлатов. Вопрос повис в воздухе. У нас ведь нет никакого чувства ответственности за деяния отцов и дедов, как в Германии, где дети, внуки и правнуки хорошо помнят, чем отличились их близкие. Где они — дети сотрудников НКВД, партийной номенклатуры, где, в конце концов, миллионы обывателей, послушно подымавших руки на очередном партсобрании, клеймившем отщепенцев, предателей социалистической родины и т.д.?
Так что не идеологией нас надо сшивать в XXI веке, а образом будущего.
Я не враг увековечивания памяти о Степане Бандере, но когда и.о. министра здравоохранения Супрун заявляет, что, принимая важные решения, мысленно советуется с вождем ОУН, это уже ни в какие ворота… И, видимо, он ей что-то советует, поскольку результаты этого тандема мы видим.
— Донбасс, ставший плацдармом для «русского мира», потерян для Украины? Или не очень-то нам и нужен?
— Россия беднеет, у нее все меньше возможностей содержать эти территории, да и Путин, в конце концов, смертен. Вольно или невольно, но он своими действиями перекрыл кислород многим влиятельным людям в России, укравшим миллиарды, доступ к которым с каждым днем все сложнее, учитывая санкции. Они привыкли к другому уровню личной свободы, где им, в конце концов, теперь отдыхать? На Байкале?
Так что я верю, что рано или поздно Украина вернется в этот регион. Но не та молодежь, которая выехала с Донбасса и уже устроилась в Киеве или других городах. Они свой выбор сделали.
Иногда мне приходит в голову крамольная мысль… Мои лагерные друзья боролись за независимость Украины, и однажды этот день настал — не потому, что мы сидели за это в лагерях. Если Донбасс действительно хочет жить иначе, если это его, а не чей-то внешний выбор, то с нравственной точки зрения почему бы не задуматься об идее независимости для этих людей? Это лишь одно из возможных решений, но и оно должно проговариваться. Врозь так врозь, мы же и так делаем всё, чтобы изолировать эти территории — с помощью блокады, например.
— Я вполне осознаю, что нынешний президент тоже стремится к узурпации власти, но понимаю, что у него это тоже не выйдет, поскольку, как писал еще Кучма, Украина — не Россия. Наш обыватель отличается от российского. Там искренне уважают Путина. Здесь власть меняется, и каждую новую власть мы не любим, а часто презираем или ненавидим. И это дает основания для оптимизма.
Что касается раскола общества, то нас и кидают в прошлое потому, что не предлагают видения будущего. Это относится и к героям УПА — чужим для значительной части страны, и к языковой проблеме, которую подавляющее большинство украинцев вообще не считают проблемой, но которую снова поднимают на щит…
После суда я двадцать дней просидел в одной камере с Василем Стусом — и это были роскошные 20 дней. Периодически я даже забывал, где нахожусь, погружаясь в украинскую культуру. Но говорили мы каждый на своем языке, и Стус относился к этому совершенно спокойно. С 25-летниками УПА в лагере общался точно так же — никто никогда слова не сказал.
Однажды меня в очередной раз перевели в новый барак, и в тот же день я был принят в «семью» Евгеном Пришляком и Василем Пидгородецким. Первый до ареста был референтом СБ львовского провода ОУН, второй — простым бойцом УПА. Собирали в тумбочке еду, делили поровну и вместе ели. Спустя какое-то время к Василю подошел старый полицай — подонок — и говорит: «Василь, ты ж такой уважаемый человек, старый зек, как тебе не стыдно с жиденком кушать?» «Я его на х… послал», — рассказывал мне потом Василь.
Я абсолютно убежден, что государственный язык необходимо знать, но со времен обретения независимости не помню ни одной попытки создания соответствующих курсов для госслужащих. Мне рассказывали, как тяжко они учили язык после работы — вслух читали Шевченко и т.д. Этнические украинцы, но абсолютно русифицированные советской действительностью. Такое издевательство, при полном равнодушии государства, вызывало отторжение, а отнюдь не патриотические чувства.
Поэтому давайте издавать хорошие учебники, готовить классных учителей — в этом залог успешной языковой политики. Мне приходится иногда общаться с высшим сословием некоторых педагогических университетов — это ужасно. Они академики каких-то своих академий, состоятельные люди, но занимаются воспроизведением советского жлобства.
Украина многое погубила в себе. Когда НаУКМА делала первые шаги, я пытался объяснить ректору, что надо сохранить научные школы математиков, физиков-теоретиков, которые сложились в «почтовых ящиках», с прекрасными специалистами. Просто надо было позволить этим специалистам преподавать на первых порах по-русски, но… мы избавились от высокого интеллекта.
— Кто в состоянии вывести страну из замкнутого круга? Пока народ тотально не доверяет власти, наивно возлагая надежды на самых оголтелых популистов, — и это мы уже проходили… Гражданское общество потерпело поражение — или просто проиграло бой?
— Гражданскому обществу надо помогать, а не давить. Я с большой тревогой отношусь к будущему страны, в которой живу и частью которой являюсь. Боюсь, что если так будет продолжаться, то украинская государственность будет побеждена не внешними силами, она просто растворится, как твердое вещество в жидкости. И останется водичка, сладкая или солоноватая — не столь важно.
— Фермент сопротивления — важное условие независимости, но недостаточное.
Строить страну — это не сидеть в карцере. Нужны другие навыки. Когда кончился Советский Союз, в Москве многие бывшие диссиденты продолжали заниматься правозащитной деятельностью. В Украине же ряд моих собратьев по Гулагу пошли в политику — и что?
Понятно, что власть постоянно подбрасывает яблоки раздора, чтобы мы передрались в своем прошлом, вместо того чтобы строить будущее. И поменьше вспоминали о реформах, которые нужны, как воздух, и вместе с тем болезненны, поэтому, держась за свои кресла, верхи не торопятся их проводить. А низы — низы взрослеют, и в этом наш шанс.
Источник, 13/10/2017